Леа Меландри: «Любовь была завесой» для домашнего насилия

Леа Меландри (1941) — эссеист, писательница и журналист. Она является признанной фигурой в итальянском феминизме. Ее последняя книга — Любовь и насилие: The Vexatious Factors of Civilization (Albany: State University of New York Press, 2019). Другие ее работы можно найти на сайте Архив Леи.
Леа Меландри: Из всех форм доминирования на протяжении всей истории человечества, мужская форма является совершенно особенной, так как она затрагивает самые интимные вещи, такие как сексуальность, материнство, семейные отношения.
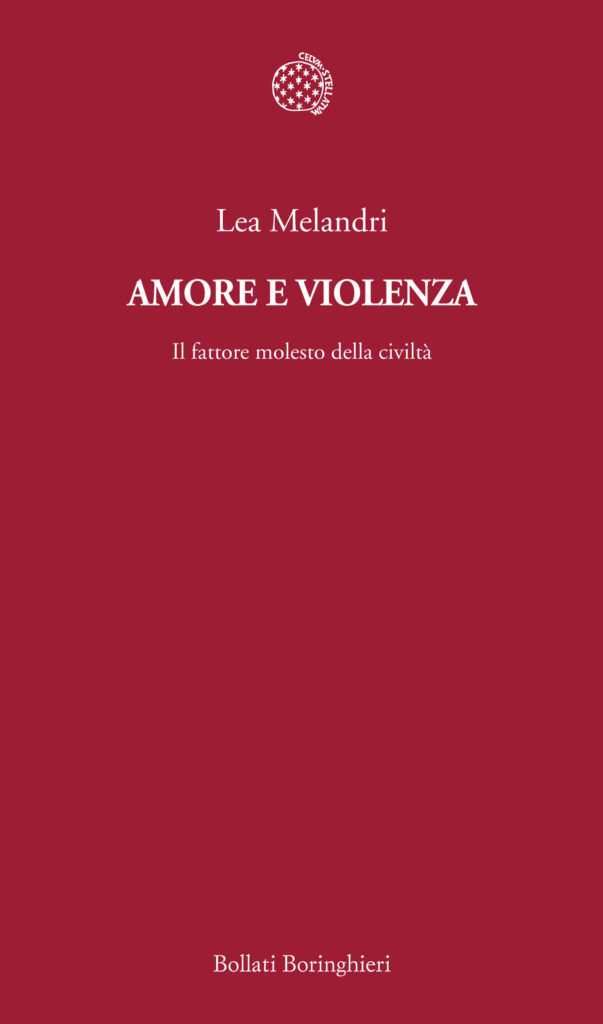
Мужчины — дети женщин: они сталкиваются с телом другого человека, породившим их, в момент своей величайшей зависимости и беспомощности. Это тело держит их в своей власти первые несколько лет их жизни, заботясь о них или отказываясь от них. Это тот же тип тела, с которым они столкнутся в своей взрослой любовной жизни, но в перевернутой позиции власти.
<Ограничивая женщин ролью матери, мужчины также заставляют себя носить маску мужественности, которая всегда находится под угрозой, устанавливать ограничения, которые считаются необходимыми, даже когда они не нужны. Мечта о любви - как об интимной принадлежности другому существу, как о единстве в паре, продолжении изначальной связи между матерью и ребенком - таит в себе риск насильственного разделения, связанный с потребностью каждого человека в автономии.Гендерные роли, в их взаимодополняемости и иерархическом расположении, формируют властные отношения. В то же время они подталкивают к идеалу, к гармоничному воссоединению неразделимых частей человеческого существа: тела и разума, чувств и рассудка. Именно эта размытость любви и насилия и сегодня мешает людям осознать сексизм.
Вы пишите: «Вместо того чтобы просто осуждать насилие, призывать к более суровым наказаниям агрессоров, большей защите жертв, возможно, было бы более разумно бросить взгляд туда, где мы не хотели бы видеть это насилие.» Что это за «зоны», эти места политики и души?
Начнем, пожалуй, с того, что стало великим «вызовом», или революцией, феминизма 1970-х: открытие того, что на протяжении тысячелетий самые универсальные переживания человека — сексуальность, материнство, рождение, смерть, семейные узы — считались «неполитическими» и относились к «частному» и к порядку «природы». Как таковые, они были обречены оставаться «постоянными».
То, что мы до сих пор склонны считать «местами души», всегда принадлежало истории, культуре и политике. Лозунг «личное — это политическое» был призван признать, что в индивидуальной жизни, в личном опыте, а также в памяти тела есть сокровища культуры, которые еще предстоит открыть, есть ненаписанная история, которую не найти ни в одном учебнике, ни в одном существующем знании или языке.
<Именно в этих "зонах" за пределами публичной сферы и дискурса, прикрытых скромностью и невежеством или "невыразимостью", поколение той эпохи искало корни разделения между политикой и сексуальностью, между разными судьбами мужчин и женщин, а также истоки всего дуализма: биологии и истории, личности и общества.«Монстр — это исключение, человек, за которого общество не должно нести ответственность. Но монстры не больны, они — здоровые дети патриархата, культуры изнасилования. Фемицид — это не преступление страсти, это преступление власти», Елена Секеттин
.Первой формой насилия, о которой мы узнали в те годы, могло быть только то, что я назвал «невидимым насилием» или «символическим насилием»: мужское представление мира, которое женщины сами насильно сделали своим, или «инкорпорировали». Не случайно жертва говорит на том же языке, что и агрессор. Что еще остается делать женщинам, как не втискиваться в эти роли — «матери», «жены», — пытаясь отвоевать хоть какую-то власть и удовольствие.
Мы были поколением, которое восставало против матерей. Они рассматривались как канал для закона отцов, и одним из узлов, в которых мы копались больше всего, были, что неудивительно, отношения матери и дочери. Мы обнаружили, что наиболее жестокое лишение прав собственности, которому подвергались женщины, заключалось в том, что их стирали как «личности», а вместо этого отождествляли с телом — эротическим телом или материнским телом — и сводили к «функциям».
В этот момент мы должны были распахнуть двери дома и поставить под вопрос сцепление и семейные узы во всей их двусмысленности. Мы должны были вынести на всеобщее обозрение насилие в его «явных» формах: жестокое обращение, эксплуатация,
фемицид. Если мы занялись проблемой домашнего насилия только гораздо позже, в начале 2000-х годов, то это потому, что любовь служила завесой — даже для тех, кто, как я, был свидетелем насилия над женщинами в своей семье на протяжении многих лет. Сегодня, когда череда убийств женщин не прекращается, легко кричать о «чудовище», требовать более суровых наказаний. Сложнее спросить, не стоит ли поставить под сомнение любовь — в том виде, в каком она досталась нам по наследству, переплетаясь с властью. Не случайно любовь также остается табу для феминизма.
Феминизм — это в некотором смысле высшая трагедия, но и до него (и даже без него) существовали формы насилия и контроля, которые утвердились в «нормальной» и «счастливой» любовной жизни. Как мы можем объяснить, что мужчины, убивающие любимых женщин, — это «здоровые дети патриархата«?
.После полувека феминистской теории и практики только сегодня мы начинаем говорить о патриархате как о «структурном явлении». Это был большой шаг вперед — говорить о фемициде не только как о преступлении, патологии личности или результате отсталой культуры. Но еще многое предстоит сделать, чтобы признать, что «явное» насилие — это лишь наиболее дикий, архаичный аспект широко распространенной культуры, ставшей нормой.
Я всегда предпочитал термин «мужское господство» или «сексизм», а не «патриархат», возможно, потому, что не решался столкнуться с двусмысленностью власти, в которой лицо нежного сына смешивается с лицом отца-хозяина. Если бы мужчины были только побеждающим и уверенным в себе полом, у них не было бы необходимости убивать; если бы женщины видели в мужчине, угрожающем их жизни, только убийцу, они бы не колебались так часто, чтобы осудить насилие, от которого страдают. Сегодня мужчины убивают, потому что, столкнувшись со свободой женщин — с тем, что они больше не являются телом, находящимся в их распоряжении, что до сих пор считалось «естественной» мужской привилегией, — мужчины обнаруживают свою хрупкость и зависимость. В общественной жизни, вместе с другими мужчинами, они свободны. Но внутри дома они, кажется, никогда не теряли пуповину и, по сути, оставались детьми, даже от жен или любовниц намного моложе себя.
Сейчас мы можем сказать, что «патриархат» — это мировоззрение, которое сформировало как обучение, так и здравый смысл, и которое в истории несет на себе печать сообщества, состоящего только из мужчин, но которое женщины усвоили сами. Если оно и стало «нормой», то только потому, что долгое время оставалось в «частной» сфере и в рамках неизменных естественных законов.
Вы цитируете книгу Бурдьё » Мужское господство, опубликованную в 1988 году. Он говорит о любви как о «высшей форме, потому что это самая тонкая, самая невидимая форма символического насилия».
До прочтения «Мужского господства» Пьера Бурдье — книги, которую я любил и рецензировал, несмотря на то, что она не получила того распространения, которого заслуживала в Италии, — тема любви уже пересекала мой личный и политический путь. В конце 1970-х годов, когда основное внимание уделялось сексуальности и гомосексуальности, а также вопросам, связанным с подсознанием, я осознал, насколько важной для меня была потребность в любви — и насколько сильно она была связана с «мечтой о любви», мечтой о слиянии, интимной принадлежности к другому существу.
В начале 1980-х годов я начал длительное исследование. Я открыла для себя книгу Сибиллы Алерамо Diario di una donna, и вела колонку «Тетя-мучительница» в журнале для подростков под названием «Ragazza In». В те годы я написала книгу, которую считаю своей самой личной: «Come nasce il sogno d’amore« («Как рождается мечта о любви»). На самом деле мне следовало бы озаглавить ее «Как заканчивается иллюзия любви» — эта мечта о «единстве двух», как определил бы ее Алерамо, этот «святотатственный акт с точки зрения индивидуальности» — после того, как ее преследует несметное количество «любовей» и «ошибок».
«Сегодня, столкнувшись с неумолимой чередой убийств женщин, легко кричать о «чудовище», требовать более суровых наказаний. Гораздо сложнее спросить, не следует ли поставить под сомнение любовь — в том виде, в каком она досталась нам, переплетенная с властью»
.<С тех пор я часто писала о мечте любви как о "невидимом насилии" и задавалась вопросом, является ли это силой или слабостью женщин, не следует ли искать их глубочайшее "рабство" именно в способности сделать себя незаменимой для другого, сделать жизнь другого "хорошей".
Заслуга книги Бурдье состоит в том, что он глубоко проанализировал конструкции пола — мужского и женского — в тех «постоянствах», которые встречаются в самых разных исторических и политических контекстах, признал, как мужское господство было колонизацией умов, а также тел, и, в частности, поставил под сомнение двусмысленность мечты о любви. В последней главе книги Бурдье задается вопросом, является ли любовь, как слияние и растворение в другом, «перемирием» — «оазисом» в войне между полами — или высшей формой этой войны, самой невидимой и коварной формой «символического насилия». Это был тот же самый вывод, к которому я пришла на своем феминистском пути. То, что мужчина должен признать это, я могла только приветствовать.
Можно ли говорить о любви по-другому?
Я думаю, что альтернативы начинают появляться только после глубокого анализа зла с точки зрения порочного узла между любовью и насилием. Я думаю, что впереди еще долгий путь. С этой точки зрения особенно интересна книга Белл Хукс Все о любви, а также эссе Франсуа Жюльена О близости, Далеко от дин любви, Рядом с ней, Непрозрачное присутствие, Интимное присутствие.
Что изменилось за последние годы, после #MeToo и в связи с текущими событиями? Когда мы разговаривали по телефону, дебаты по убийству Джулии Чеккеттин были свежими, и вы сказали мне: «Я слышу в газетах рассуждения, которые мы, феминистки, ведем уже много лет». Что случилось?
Большие изменения, даже больше, чем от #MeToo — которая почти стала просто медиа-судом над знаменитостями, — произошли от последних волн феминизма, начиная с начала 2000-х годов. В 2007 году в Италии прошла первая большая демонстрация, организованная группой «Sommosse», на которой мы увидели плакаты о домашнем насилии и лозунг «У убийцы есть ключи от дома».
Они наконец-то заглянули в семейный дом, в семейные отношения. Насилие, которое всегда присутствовало там, но было скрыто двусмысленным вопросом частной жизни, теперь появилось в открытом доступе. Национальные и международные отчеты о причинах женских смертей сыграли важную роль в привлечении сексизма в политический дискурс. Как и непрерывная череда женских убийств, к сожалению.
Также важным событием стало рождение сети «Ni Una Menos» в 2017 году, которая зародилась в Аргентине. С тех пор каждый год 8 марта и 25 ноября проводятся масштабные демонстрации. Они никогда не получали того внимания, которого заслуживали.
В этом последнем феминистском «приливе» новым для меня стало расширение дискурса на все формы господства: сексизм, классовость, расизм, колониализм и т.д. Вернулись радикальные требования феминизма 1970-х годов — «изменить себя и мир». Задача состоит в том, чтобы начать с самого далекого от политики места — с себя, с личного опыта — чтобы инвестировать и «разрушить» обучение и власть общественной жизни.
При признании важнейшего наследия полувекового феминизма, «непредвиденный» скачок в историческом сознании произошел в Италии с фемицидом Джулии Чеккеттин, студентки, убитой своим бывшим парнем 11 ноября 2023 года. Именно слова Елены, сестры жертвы, и ее отца Джино Чеккеттина открыли неожиданную брешь в итальянской культуре и СМИ, которые до сих пор остаются в основе своей мачо.
.
Настала очередь фигур отца и дочери пробить броню семейных ролей, поставить под сомнение «нормальность» атавистических предрассудков, которые «приватизировали» и «натурализовали» исторические властные отношения. Слова сестры Джулии сами по себе стали поворотным пунктом, от которого нет возврата: это были лозунги и истины, выкрикиваемые поколениями феминисток, впервые выходящих из узких и игнорируемых сфер, чтобы быть услышанными и подхваченными в самых разных уголках общественной жизни.
«Монстр, — говорит Елена, — это исключение, человек, за которого общество не должно нести ответственность. Но монстры не больны, они — здоровые дети патриархата, культуры изнасилования. Фемицид — это не преступление страсти, это преступление власти. Нам необходимо повсеместное сексуальное и эмоциональное просвещение, мы должны научить, что любовь — это не обладание.»



